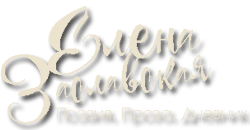Как рождаются жемчужины? В раковину попадает достаточно крупная песчинка, осколок или даже рыбья косточка. Инородное тело причиняет хозяину огромное неудобство, и тот начинает обволакивать, окутывать ее собственным перламутром, слой за слоем. Застывая, слои формируют прекрасную жемчужину: в буквальном смысле, плод страсти и страдания. Так, порой, чувства и переживания, которые мы маркируем, как причиняющие боль, надежно сокрытые за плотными створками души, могут породить неописуемую красоту идеальной формы.
Произведение Заславской «Nemo» – это не просто редкий образец любовной лирики, романтизма и русской волшебной поэтической традиции. Это еще и многослойный, многообразный морской квест.
Главная героиня, русалка, сама по себе персонаж неоднозначный в прямом смысле – это существо раздвоенной природы, наполовину человек, наполовину – рыба. Сказки о русалочках создают контекст – они могут жить как в море, так и на суше, если обменяют у какой-нибудь колдуньи свой прекрасный голос на парочку не менее прекрасных ножек. Но, что делать, если нет больше никакой суши? Город, в котором живет русалочка, затонувший, а ее возлюбленный – даже не принц, а загадочный Nemo.
Nemo – обитатель другой реальности, а, значит, мы имеем дело с сюжетом невозможной, неравной, запретной любви. Это один из основных мировых сюжетов, как минимум, он чуть ли не обязателен в индийских сказках, пьесах и даже современном Болливуде. К нему относится не только любовь между представителями разных каст и верований, но и разных миров: реального и сказочного, либо натурального и духовного. Если русалочка – дитя моря, то назовем Nemo жителем земли:
«Когда же, Nemo,
Ты придешь на берег,
Что вынесет к твоим ногам прибой?»
Nemo не нужны превращения русалочки, не нужны жертвы, не нужны и стихи-посвящения. Он хочет оставаться анонимом, ибо понимает отстутствие будущего и опасность неравной любви. Поэтому, свой голос главная героиня использует не как разменную монету, а чтобы поведать свою историю фавну Марсию:
«Седой рапсод,
Бродяга-инфлюэнсер,
Я расскажу тебе историю свою».
Мы знаем, что рапсоды – это странствующие певцы, бродяги, словом, номады. О Марсии будет немного позже, а пока стоит обратится к кочевому мотиву поэмы, проходящем через все произведение нитью, на которую нанизываются жемчужины. И не только потому, что через образ моря в «Nemo» проступает бескрайняя степь, чудесные луга и Дикое поле. В общем-то, разницы между морем и степью нет: и то, и другое – необъятный и неконтролируемый простор. Тут мы вытаскиваем и обтираем пыльцу с концепций Делеза-Гватари о типах пространства (шутка, у нас они обычно не успевают запылиться).
Вышеупомянутые море-поле относятся к так называемым гладким пространствам. Это не значит, что море гладкое и безмятежное, отнюдь. Гладкое – это непрерывная вариация, развитие формы, слияние гармонии и мелодии ради извлечения чисто ритмических значимостей. Морская модель – так в «Тысяча плато» характеризуется этот тип пространства. Именно оно есть прибежище пиратов, рапсодов, кочевников. В гладком больше всего свободы и коммуникаций, можно плыть в любом направлении, и, при этом, всегда находится на своем месте. Оно в большей мере заполнено событиями или этовостями, нежели оформленными и воспринимаемыми вещами. А кочевники таковые именно потому, что они не движутся, не мигрируют, удерживая гладкое пространство, которое отказываются покидать.
Город, в противовес морю, относится к так называемым рифленым пространствам. Они характеризуются оседлостью и некой стабильностью. Но затопленный город из поэмы, Луганжелес – место, где одновременно сосуществуют оба пространства. Он – не граница и не столица, а нечто на пересечении границ. Грубо говоря, если у кочевников, сатиров и русалок есть города, то Луганжелес один из них. Словом, место действия поэмы происходит в номадической топологии постмодерна:
«Наш город давно под водою.
Город-легенда, миф.
Кто же его придумал?
Жив он или погиб?»
Причем, особенность обоих пространств, что они взаимонакладываются, чередуются, переходят друг в друга. Только в истории это занимает века, а в мифе это время между набегом волн. И необузданное море, и дикое поле – это простор. Это слово не имеет эквивалента в западноевропейских языках (потому что у них достаточно зарифленая реальность), простор происходит от древнего санскритского prastara – плоскость. Как утверждает технотеолог М.Куртов: «никто не может контролировать простор, море это тот простор, на который нет контроля».
Наконец, море – вода. Это жидкий кристалл, но она совершеннее кремния, ее резерв памяти не ограничен структурой. Случившееся затопление города новой данностью рождает новые смыслы (флибустьеры, жрецы), связи (гладкие, горизонтальные), средства коммуникации (телефон-ракушка).
В «Nemo» само волшебство и чудесные гаджеты, например, ракушка и рог единорога, противостоят технологиям извне:
«Из рога единорога
Хорошая выйдет пушка.
Ею можно на мушку
Любого
Киборга или Дрона.»
Оружие в степях исключительно магическое, а не электронное и металлическое. Мир же вне мифа — технократический мир, несет ужас и смерть:
«Над головой,
Будто черные вороны
Черные дроны летают,
Чертовы роботы,
Новые вестники,
Горя валькирии!
Что вы несете нам
На электронном носителе?»
В морской модели, в отличие от оседлой, Военная Машина не имеет своей целью войну и производство оружия массового поражения. Война здесь существует как средство для предотвращения возникновения «органов власти» и централизованного насилия. Даже воины в мифологическом гладком пространстве названы «жрецами». Они не солдаты, но служители Камнеликой Богородицы:
«Я вглядываюсь в линию горизонта
Рядом со мною жрец, позывной – Скиф.»
Еще один интересный объект гладкого пространства – курган. Он проступает со дна в поэме, как субмарина с мертвым экипажем:
«Спит подводная лодка кургана –
Субмарина полная мертвецов.»
По сути, кочевники создавали курганы не только как индивидуальные гробницы, но и как братские могилы. Курганы всегда охранялись идолами – скифскими или половецкими бабами. Те, которые держали в руках младенцев, назывались Черными Мадоннами. По одной из версий, это образ Изиды с воскрешенным сыном Тамзуком. Подлодку же можно сравнить с ковчегом. Ковчег – символ жизни, а курган-субмарина – образ смерти. На самом деле, разница между ними тоже не большая, потому что и тот, и другой напоминают одновременно о начале и конце.
Марсий, которому поручено увековечить эту поэму – рапсод, таких называли «сшиватель песен». Вместо жезла, положенного рапсоду, у него в руках флейта. По легенде, Афина выкинула этот инструмент, так как не смогла овладеть искусством игры на нем. Говорят, причина была в том, что богиня постоянно смотрелась в зеркало. Марсий же стал мастером благодаря самоотдаче, он играл и пел нимфам и сказочным существам, а однажды вызвал на поединок самого Аполлона. Марсий – сатир, выступивший против бога. Это еще один символ неравной борьбы и отваги. Христианские моралисты считают Марсия воплощением гордыни. Однако, он даже избранный им инструмент считался «простонародным» – не то, что лира Аполлона. Флейта якобы вызывала низменные, «дионисийские» страсти, тогда как лира настраивала на возвышенный лад. То, что героиня доверяет свою историю Марсию, намекает на предпочтение фольклорному и языческому перед «элитарным» и божественным.
Все, что населяет гладкое пространство, постоянно проходит через метаморфозы. Марсий, проигравший состязание, был освежован Аполлоном. Однако, он был приобщен к богам, а содранная кожа символизировала внешнюю косную оболочку, сбросив которую рапсод обнажает свое истинное внутреннее бытие. Недаром в Риме и колониях на рынках стояли статуи Марсия, как эмблемы свободы. Русалочка способна на такую метаморфозу (возможность стать человеком благодаря любви) – но она встречает смерть, будучи «извлеченной» из своей мифической среды обитания. Быть пойманной на блесну (блесна как некая технология-уловка, обман), значит, что именно «природное» приводит ее в ловушку.
То, что в конце Елена раскрывает свое имя для Nemo, намекает на возможность воскрешения. Знать имя существа — значит, иметь над ним власть, способность вызывать его или ее когда угодно, обязывать говорить правду и т.д. Во множествах описаниий загробной жизни говорится, что мертвые не помнят своего имени. Русалочка остается жить в памяти моря, в песнях Марсия. Но, даже рапсоду она не выдает имя возлюбленного, навсегда защищая его жизнь и свободу:
«Ты будешь не узнан,
Не назван.
Мистер Никто. No name.»
Ольга Бодрухина